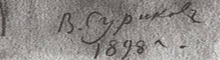Глава четвертая - «Утро стрелецкой казни», продолжение
Верхнюю часть композиции художник тоже прочертил круговой линией, обозначившей каменный рельеф Добного места. Возвышавшийся здесь писец оглашал на всю площадь царский приговор, дабы москвичи узнали о злодействах вооруженных стрельцов и правоте наказания. Впрочем, и без его крика горожане были осведомлены и забирались в тесноте и давке на то же Добное место, пытаясь не оступиться на скользких мокрых ступенях. Один из достигших цели счастливчиков показывал пальцем на Петра, восседавшего на коне. Судя по домотканым зипунам и черным шапкам, это были простолюдины, которые обычно выкладывали товар в площадных лавочках. Среди мужчин, толкавшихся на лестнице, мелькала женщина в кокошнике, отделанном жемчугом. Она закрывала лицо платком, чтобы никто не узнал выбежавшую тайком жительницу боярского терема. Естественное любопытство! Как говорят: «На миру и смерть красна».
v
Вишневым сгустком легло у нижнего края картины красочное пятно - брошенный на мостовую длиннополый кафтан, рядом едва дышала свеча, брошенная в земляную хлябь. Солдат-преображенец, бряцая саблей, вел к плахе стрельца в белой рубахе, ослабевшего от безудержного плача красавицы-жены и утонувшего в подоле ее расшитой душегрейки малолетнего сына. За ее спиной другой стражник задувал огонь, отобранный у седовласого старца. Он не оставлял забот главы семьи, утешал прижавшуюся к его коленям дочь и всхлипывавшего в рукав поддевки внука. Его собрат - чернобородый стрелец сжимал в руках свечу и не отпускал ее, не замечая, что погруженная в печаль жена по царской указке стаскивала с его плеча красную форму - предмет его повседневной гордости. Храбрый воин еще постоит за жизнь, бьющуюся в мужественных венах, у места расплаты он басовито обратится к Петру: «Посторонись, государь. Это я должен здесь лечь». Непримиримым противником петровских деяний предстает в эпицентре картины рыжебородый стрелец, зажавший в кулаке свечу, словно придорожный булыжник, который он сейчас метко бросит и сразит противника. Его правая рука инстинктивно тянулась к поясу, где всегда нависала острая сабля. Единственным оружием остался для него в час казни ненавидящий взгляд-стрела, которым он насквозь пронизывал лицо русского царя.
В выразительной обрисовке образов стрельцов Суриков следовал принципам музыкальных произведений Баха и Бетховена, когда полифоническая кульминация переходила в замирающую звуковую паузу. В левой части полотна художник написал полулежавшую в телеге фигуру старика с взлохмаченной шапкой волос. После бессонной ночи заточения в душном каземате он заснул на сквозняке площадного ветра, не слушая ругань рыжего сотоварища. Бывалый вояка притерпелся к бранному мужскому говору в походах, когда он грелся в поле у предрассветного костра, подобно свече, потрескивавшей нынче у его груди. Перед последним боем можно забыться в дреме и не помышлять о конце: двум смертям не бывать, а одной не миновать...
Почти вплотную к Лобному месту мастер поместил молодого стрельца, который не был уверен в правоте наговоров царевны Софьи Алексеевны, и, подражая ее младшему брату, сбрил боярскую бороду. Он примкнул бы к армии Петра, надел бы новехонький Преображенский мундир, да не разорвать ему кровных уз с собственным домом. В полный рост поднялся на днище телеги его родич, отвернувшийся от государя и склонившийся в поклоне к народу. Биографы Сурикова обнаруживали в его чертах сходство с Иоанном Крестителем на иконе из деисусного чина Архангельского собора Московского Кремля. По сведениям Корба, «священников для напутствия осужденных видно не было; как будто бы преступники были недостойны этого подвига благочестия». Тогда художник вложил слова молитвы в уста охваченного религиозным экстазом стрельца: «Отче наш, иже еси на Небесах! Да святится имя Твое, да пребудет воля Твоя, яко на Небеси и на земли».
Приговоренных к казни на картине Сурикова было семеро, это число обращено к древнему семику - земледельческому обряду славян, посещавших могилы предков и просивших помощи в выращивании урожая. На полотне ощущалось и незримое дыхание восьмого, который, по словам очевидца, поцеловал плаху и сказал царю, что подвергается наказанию невинно, на что Петр ответствовал: «Умри, несчастный! Если ты окажешься невинным, то вина за твою кровь падет на меня». Не потому ли в последовавшие эпохи российский трон расшатывался и канул в муках братоубийственной схватки? Не потому ли на суриковском холсте голосила у размытой колеи крестьянка в берестяных лаптях и ветхой юбке - поневе? Ты и могучая, ты и бессильная, матушка Русь...
Одновременно с Суриковым размышлял о судьбе родной земли живописец Виктор Васнецов. В выполненном в 1882 году полотне «Витязь на распутье» он изобразил былинного воина на белом коне, который остановился на поле битвы, усеянном мертвыми костями, перед покрытым мхом валуном. В его морщинистых расщелинах гласила вещая надпись:
Как прямо ехати,
Живу не бывати -
Нет пути ни прохожему,
Ни проезжему, ни пролетному.
Погруженный в глубокое раздумье витязь не двигался прочь с колдовской равнины, заклятой парящим над ней вороньем, жаждавшим вкусить раненую человеческую плоть.
Свою картину Васнецов соотносил с событиями русско-турецкой войны 1877-1878 годов. Художник говорил: «Только тот исторический сюжет годится для искусства, который затрагивает настоящее с прошедшим по сродству идей».
|