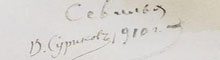Глава четвертая - «Утро стрелецкой казни»
В старой столице Суриков чувствовал себя гораздо уютнее, чем в Петербурге. Москва напоминала ему оставленный Красноярск, когда он шел по петлявшим улицам, казалось, его посещали видения сибирской поры: «И как забытые сны стали все больше и больше вставать в памяти картины того, что видел и в детстве, а затем и в юности, стали припоминаться типы, костюмы, и потянуло ко всему этому, как к чему-то родному и несказанно дорогому». Порфироносная вдова пусть внешне померкла перед блеском младшей сестры, не собиралась перенимать ее правила парадной архитектуры. Москва хранила приметы XVIII века в теремном дворце князя Юсупова, занимавшем половину Большого Харитоньевского переулка. После пожара 1812 года застройка города велась архитектором Григорьевым в манере московского ампира, в которой соединялось житие традиционной русской избы с провинциальным усадебным фасадом. Московские дворики в арбатских переулках мало отличались от Благовещенской улицы в Красноярске. Повседневному обзору горожан подвергались бревенчатые сараи, дощатые заборы, дворовые колодцы. На траве с головками полевых цветов кудахтали куры, отмахивалась от мух бурая лошадь, запряженная в хозяйственную повозку, белоголовая детвора отыскивала заветные камешки, ловила жуков и бабочек.
Когда Суриков по вечерам оставлял работу в храме Христа Спасителя, он шел к Кремлю, и ему чудилось, что в сумерках навстречу выходят люди в старинных одеяниях. В письме к родным художник рассказывал, что он опять поднимался на колокольню Ивана Великого, ходил в усыпальницу Архангельского собора: «Тут и Дмитрий Иванович Донской и Калита, Семен Гордый, Алексей Михайлович, Михаил Федорович; Иван Васильевич Грозный лежит отдельно в приделе, похожем на алтарь. Рядом с его гробницей лежат сыновья его. Один убитый Грозным же, потом в серебряной раке лежит Дмитрий Углицкий, сын Грозного, убитый по повелению Бориса Годунова. Показывается рубашка, в которой его убили, и на ней и носовом платке его видны еще следы крови в виде темных пятнышек».
В 1876 году Суриков написал акварель «Вид на Кремль зимой», где среди сугробов Александровского сада кряхтела Кутафья башня, соединенная мостом со стрельчатой соперницей - Троицкой. Отброшенные каменными строениями тени разрастались в фигуры богатырей ростом вровень с зубчатой кремлевской стеной. «Однажды иду я по Красной площади, кругом ни души, - говорил художник писателю Сергею Глаголю. - Остановился недалеко от Лобного места, засмотрелся на очертания Василия Блаженного, и вдруг в воображении вспыхнула сцена стрелецкой казни, да так ясно, что даже сердце забилось. Почувствовал, что если напишу, что мне представилось, то выйдет потрясающая картина».
Первый набросок стрельцов был сделан поздней ночью на листке, вырванном из тетради с нотами для гитары и датированном 1878 годом. Это и есть лаборатория мастера: начальный импульс его творения не мог явиться на дорогом глянце с вензелями, на взятый в руки скромный материал падали одна за другой соринки обиходной жилой комнаты. Так в 1851 году Карл Брюллов, набрасывая в Италии портрет позировавшей ему в костюме Жанны д'Арк - Джульетты Титтони, взял в минуту озарения ординарный счет с цифрами расходов ее отца и вывел на нем графический облик юной девушки.
Суриков начертал карандашом контуры мужчин, женщин, детей, сидевших в телегах, тесно прижимаясь друг к другу. Он не прорисовал их лица, но в сжатых позах, опущенных головах ощущалась мучительная тревога. В энергетическом напряжении этот лист сопоставим с эскизами Брюллова к «Последнему дню Помпеи», когда в погибельное извержение вулкана люди пытались обрести в таких же, как они обреченных, зыбкую защиту. Отчего живописцев-ясновидцев минувшего тянуло заглянуть в пропасть, где в неотвратимом отсчете разрывалась земная плоть и не было просвета в спасении?
Брюллов, далеко от России создавая полотно о разрушенном поселении Римской империи, думал об изобразительном сюжете из надломов коры русской истории. Суриков, рожденный в глубине сибирских руд, постигал воочию эту кровоточащую историческую явь. Художник сообщал своим биографам, что мысль написать картину о расправе Петра I над феодальным войском стрельцов возникла у него еще в Красноярске, когда юноша видел свершавшиеся там публичные казни преступников. «Раз трех мужиков за поджог казнили, - рассказывал он Максимилиану Волошину. - Один высокий парень был, вроде Шаляпина, другой старик. Их на телегах в белых рубахах привезли. Женщины лезут, плачут - родственницы их. Я близко стоял. Дали залп. На рубахах красные пятна появились. Два упали. А парень стоит. Потом и он упал. А потом вдруг, вижу, подымается. Еще дали залп. И опять подымается... Потом один офицер подошел, приставил револьвер, убил его... А другой раз я видел, как поляка казнили... Он во время переклички ножом офицера пырнул... Его далеко за город везли. Он бледный вышел. Все кричал: «Делайте то же, что я сделал». Рубашку поправлял. Ему умирать, а он рубашку поправляет. У меня прямо земля под ногами поплыла, как залп дали. Жестокая жизнь в Сибири была. Совсем XVII век».
«Старые дрожжи» поднялись в натуре Сурикова, когда он принялся расспрашивать камни Красной площади: «Я на памятники, как на живых людей, смотрел... Вы видели, вы слышали, вы свидетели». И они свидетельствовали о том, что первоначально это место именовалось в народе Пожаром, что на Лобном месте был подвергнут четвертованию поджигатель царского спокойствия Степан Разин. О Покровском соборе, возведенном Бармой и Постником в честь победы над Казанью в эпоху Ивана Грозного, художник говорил: «Все он мне кровавым казался. Этюд я с него писал».
|