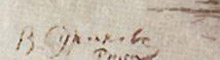
|

|
Книга Галины Чурак. Василий Суриков
«Появление его в художественном мире с картиной «Казнь стрельцов» было ошеломляюще, - вспоминает другая дочь Третьякова, Александра Боткина, - никто не начинал так. Он не раскачивался. Не примеривался и как гром грянул этим произведением». Первого марта 1881 года в доме князей Юсуповых на Мойке открылась очередная, 9-я выставка Товарищества передвижников. День этот вошел в российскую историю, как один из самых трагических - бомба народовольцев унесла жизнь императора Александра II. Но завершились траурные дни, и с нетерпением ждавшие открытия Передвижной выставки любители искусства были вознаграждены встречами с истинными шедеврами, авторы которых властно входили в историю отечественной культуры. Рядом с портретами М.П.Мусоргского и А.Ф.Писемского работы Ильи Репина, «Аленушкой» Виктора Васнецова, пейзажами Алексея Саврасова и Ивана Шишкина посетители увидели картину никому еще не известного живописца Василия Сурикова «Утро стрелецкой казни», непостижимым образом соединившую трагедию России прошлого и нынешнего дня. Его имя стало настоящим открытием. А картина по завершении выставки обрела свое постоянное место в Лаврушинском переулке, в галерее Третьякова, уже в то время воспринимавшейся общественным сознанием как самое значительное в России собрание национальной живописи. ...Раннее осеннее утро занимается над Москвой, в зыбкий холодный туман погружена Красная площадь, заполненная телегами, лошадьми, стрельцами, их женами и детьми. И кажется, глухой стон отчаяния и протеста перекатывается от Лобного места и Собора Василия Блаженного к стенам Кремля, разбиваясь о плотно сомкнутые ряды петровского войска. Молодой царь усмиряет взбунтовавшихся стрельцов. Реформы Петра, всколыхнувшие Россию, коснулись и преобразования армии. Один за другим поднимались бунты стрельцов, недовольных нововведениями царя-реформатора. Последнему из бунтов, произошедшему в 1698 году, и посвятил Суриков свою картину. Ряды виселиц вдоль Кремлевской стены напоминают о неминуемости трагической развязки. «Торжественность последних минут мне хотелось передать, а совсем не казнь», - объяснял Суриков смысл картины. Горящие свечи в руках стрельцов как символ прощания с жизнью: догорает свеча - угасает и жизнь человека. Солдат-преображенец уже ведет к месту казни первого стрельца; поникла его голова, опущены плечи, едва тлеет свеча, упавшая из рук на землю. В каждом из ожидающих казни - седом ли старике, или угрюмо, словно «в себя» глядящем чернобородом стрельце, или в том, что склонился в последнем поклоне, по-своему прорываются протест и непокорность. Но самый открытый, дерзкий и отчаянный характер видится в облике рыжебородого стрельца, взгляд которого встречается со взглядом Петра. На этом противостоянии Суриков и строит психологический стержень разыгрывающейся перед нашими глазами драмы. Стоит ли задавать вопрос, какой из противоборствующих сторон сочувствует художник? Он протестует вместе со стрельцами, сострадает горю их жен, матерей, детей, размышляет и оценивает происходящую трагедию взглядом иностранного посла. Но он же смотрит на бунтовщиков и гневным взором молодого царя, за которым будущее России. Силой художественного воображения Суриков воскрешает эпизод Петровской эпохи, воспринимая ее как трагическую полосу отечественной истории, в которой народ - страдательная сторона, взывающая не только к пониманию, сочувствию, но и преклонению перед мужеством, стойкостью и силой характеров. Такими художник видит стрельцов в своей картине. Вместе с сострадающими им людьми, заполнившими Красную площадь, они олицетворяют вечно непокорный бунтарский дух народа. Драматическая сила полотна выражена равно и в психологической убедительности образов, и в выразительности живописной ткани произведения. Картина благородна своей сдержанностью. Здесь нет ни одного эффекта ради эффекта, нет психологических «пережимов». Волей мастера все соединено в целостный художественный образ. Сквозь мглистый холодный рассвет прорывается тревожное горение свечей. Их мерцающие огоньки усиливают восприятие цвета красных кафтанов, шапок, платков, одежды боярина в свите Петра. Разлитый то тут, то там по картине алый цвет заставляет вспомнить о близящемся финале. «Никогда не было желания потрясти, - признавался художник. - Всюду красоту любил». Она открывалась для Сурикова не только в выразительности лиц или характеров, но в самых обыденных, даже прозаических вещах - расписных дугах, шершавом дереве бортов телег, сверкающих «чистым серебром» железных полозьях колес, облепленных землей. «Когда я телеги видел, я каждому колесу готов был в ноги поклониться, - говорил он. - И вот среди всех драм, что я писал, я эти детали любил». Временами детали казались художнику самым главным из всего, что его увлекало в картине. Живопись в ее чистом проявлении - в радующем глаз узоре парчовой одежды, ситцевой юбки или лужи, блестящей на разъезженной дороге и смешанной с вязкой грязью - уравновешивает трагическое начало его исторических полотен.
|
Рекламный блок наших партнеров:
•
"Как относительно большинства наших лучших художников, так и относительно Сурикова русская публика обнаружила полнейшее непонимание в художественных вопросах. Чего-чего не было говорено о перспективе в «Стрельцах» и «Морозовой», о колорите «Ермака», о росте Меншикова. Мнение, что «Суриков очень талантлив, но совершенный неуч - то ли дело Константин Маковский или Поленов», безусловно, утвердилось. «Вот если бы к трагизму Сурикова прибавить рисунок Верещагина да краски Семирадского, у нас было бы одним хорошим историческим живописцем больше». :)"
