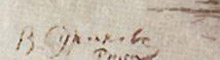Глава одиннадцатая - Рубежи века в живописи Сурикова, продолжение
Свидетель свершений коллеги-монументалиста Михаил Васильевич Нестеров, напротив, отозвался о «Степане Разине» холодно, заявив, что в картине «не было прежнего Сурикова, Сурикова "Стрельцов", "Меншикова", "Морозовой", "Ермака", - годы брали свое». Нет, это брал свое отнюдь не суриковский шестидесятилетний возраст, а неумолимый отсчет курантов, приближавший падение герба Российской империи.
«Степан Разин» вошел в экспозицию тридцать пятой выставки передвижников. Не получив там поддержки, Суриков покинул ряды Товарищества и стал участвовать в деятельности другого профессионального объединения - Союза русских художников.
В апреле 1907 года в письме к брату художник констатировал, что его картина находится «во владении ее автора Василия Ивановича и, должно быть, перейдет в собственность его дальнейшего потомства»: «Времена полного повсюду безденежья, и этим все разрешается. Писали в петербургских газетах, что будто Академия хотела ее приобрести, да откуда у нее деньги-то?» Суриков пояснил, что не испытывает огорчения из-за денежных осложнений: «Ну, да я не горюю - этого нужно было ожидать. А важно то, что я Степана написал! Это все».
Когда «Степан Разин» вызревал в мастерской художника, он прочитал в номере «Журнала Министерства народного просвещения» статью Н.Н.Оглобина - исследователя архивов Сибирского приказа о бунте, который вспыхнул в Красноярске в начале петровского правления в 1695-1698 годах. Он попросил брата прочесть ее, чтобы лучше утвердиться в сведениях об их родословной: «Тут многие есть фамилии наших казаков и в том числе имена наших предков с тобой, казаков Ильи и Петра Суриковых, принимавших участие в бунте против воевод-взяточников. «В доме Петра и Ильи Суриковых» были сборища заговорщиков против воеводы... Видно, у нас был большой дом, уже не дом ли Матвея дедушки? Суриков (Петр) был в "кругу", где решили избить воеводу и утопить его в Енисее... Чрезвычайно интересно, что мы знаем с тобой предков теперь своих, уже казаков в 1690 году, а отцы их, конечно, пришли с Ермаком».
В ноябре 1902 года Василий Иванович отправил письмо В.В.Стасову с отзывом о статье «Красноярский бунт 1695-1698 годов»: «В этом бунте принимали участие и мои предки - казаки Петр и Илья Суриковы, от которых и я, аз многогрешный, происхожу по прямой линии. Если найдете свободное времечко, прочтите». Владимир Васильевич назвал полученное от Сурикова сообщение «превеликим праздником»: «Ведь я очень давно Вас так люблю и уважаю, еще с тех самых пор, как Вы написали "Морозову", предмет всегдашнего моего удивления и обожания, а отчасти даже и ранее того, когда я узнал в первый раз первые Ваши картины - "Стрельцов" и "Меншикова". Теоретик искусства второй половины XIX столетия высказал пожелание, чтобы в новых картинах художник не расставался с масштабной проблематикой: «Только бы они не были малозначительны, а затрагивали бы опять которую-нибудь глубокую и широкую русскую древнюю трагедию, корни русской старой истории, как в "Морозовой" и в "Стрельцах". Это настоящий Ваш удел, арена и задача! Трагедия, трагедия, трагедия - никак не что-то спокойное и равнодушное! Это не для Вас - как мне кажется и как глубоко убежден». Стасов, изучив публикацию Оглобина, заявил, что у него «разыгрался» аппетит: «Ах, если б Суриков вздумал сделать картину из одного которого-то момента этих сибирских событий, да еще со своими Ильей и Петром!!»
Это полотно могло бы продолжить тему «Утра стрелецкой казни», но тут же Стасов приходил к противоположному заключению: «Это чисто невозможно по нынешним временам. Разве только когда-нибудь в будущем, а когда и сообразить мудрено». Прозорливость критика оправдалась, потому что «Красноярский бунт» так и остался в эскизе, выполненном карандашом с вкраплениями акварели. Сибирские пращуры мастера были обращены спинами к первому плану композиции, по их взбудораженным позам, вытянутым рукам, зажатым в кулаки перед высившейся на площади церковью, ощущалось состояние неуправляемой в инстинктах свинцовой толпы, бросавшейся в «окаянное» летоисчисление - из огня да в полымя.
Не перешел на полотно и набросок возмутителя спокойствия екатерининского правления Емельяна Пугачева, который Суриков сделал со встреченного им казацкого офицера. Видевшие его биографы художника Г.Гор и В.Петров привели минорное описание в своей книге: «Пугачев, закованный в кандалы и запертый в железную клетку. В суриковском рисунке найдено психологическое решение образа, близкое к "Разину": герой побежден и одинок... Пристальный, тяжелый и хмурый взгляд Пугачева, полный вместе с тем глубокой уверенности и сознания своей правоты, дает ключ к пониманию замысла Сурикова. Но работа над этой картиной не продолжалась».
Мастер, обуреваемый знамениями разбухавших противоречий XX века и породивших их сущность предшествующих эпох, будто ослаблял зоркое зрение и откладывал в неосуществленную папку графические пророчества. Тем самым он, очевидно, хотел по-человечески самосохраниться в окружающей его ежедневной жизни, дабы сопереживать дорогим для него людям.
В феврале 1902 года Ольга Сурикова обвенчалась с Петром Кончаловским в Хамовнической церкви. Во время сватовства жених смягчил взыгравшую ревность отца невесты словами: «Но ведь вы же ее, Василий Иванович, воспитали для мужа-художника». «Девочка в красном платье» вспоминала: «Я приехала на венчание в белой фате. Со мной приехал маленький сын Валентина Александровича Серова - Юра с образом, а в церкви шафера несли за мной мой огромный шлейф. Шаферами были Максим Петрович Кончаловский, художник Милиотти и Давид Иванович Иловайский... После венчания мы все поехали к нам в Леонтьевский переулок. Потом нас проводили на вокзал, и мы уехали в Петербург».
|