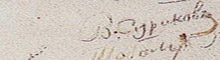Глава седьмая - «Боярыня Морозова», продолжение
Почитаемой иконой средневековой Руси была миротворческая «Троица», созданная Андреем Рублевым по благословению Сергия Радонежского. На дороге, ведущей к мощам святого старца в Троице-Сергиевой лавре, Суриков запечатлел в этюде и на полотне коленопреклоненную странницу с холщовой нищенской сумой. Поодаль от нее лежало блюдо с горстью грошового подаяния. Это был повод к медному бунту, который разразился в Москве в 1662 году. По указу царя стали чеканить медные деньги взамен серебряных. Их неумеренный выпуск и подделки из переплавленной домашней утвари привели к инфляции, разорившей население. Тысячи москвичей отправились искать правду у государя в селе Коломенском. Стрелецкие полки открыли по ним огонь, многие просители были убиты, другие утонули в Москве-реке. Вожаки бунта подверглись казни, рядовые участники сосланы в Сибирь. Выпуск медных полтин был прекращен, но мелочь продолжала ходить в низах. И старики в лохмотьях вымаливали ее у прохожих: «Дай, дай, копеечку» и плакали, когда шустрые мальчишки отнимали милостыню.
Образ юродивого в «Боярыне Морозовой» носил собирательный характер. Он писался в унисон пушкинскому персонажу в трагедии «Борис Годунов», художник следовал драматической ремарке в описании внешности блаженного: «Обвешанный веригами». На картине с шеи юродивого спускалась массивная цепь, увенчанная пудовым крестом. Василий Иванович нашел нужные страницы в повествовании Забелина, где сообщалось об убогом Федоре - верном человеке, посланном Аввакумом к Федосии Прокопьевне и обласканном ею в московских хоромах. Как и в работе над «Утром стрелецкой казни», мастеру помогли главы романа Загоскина «Юрий Милославский»: «Дверь отворилась, и человек средних лет, босиком в рубище, подпоясанный веревкой, с растрепанными волосами и всклокоченной бородою, в два прыжка очутился посреди комнаты. Несмотря на нищенскую его одежду и странные ухватки, сейчас можно было догадаться, что он не сумасшедший: глаза его блистали умом, а на благообразном лице выражалась необыкновенная кротость и спокойствие души».
Этот вековечный тип народного мудреца и прорицателя в «худой рубе» шута встретился Сурикову в реальности зимы 1885 года на толкучке. Проходя мимо оборванцев, сбывавших краденое тряпье, он приметил возле горластых торговок похлебки из требухи низкорослого мужика, достававшего из бочки соленые огурцы и шутками донимавшего прохожих. Художника поразила его голова: «Такой вот череп у таких людей бывает». Он принялся уговаривать колоритную личность позировать ему, привел во двор Збука и усадил на подтаивавший снег. «Я его на снегу так и писал, - объяснял он Волошину. - Водки ему дал и водкой ноги натер. Алкоголики ведь они все. Он в одной холщовой рубахе босиком у меня на снегу сидел. Ноги у него даже посинели». Бодро выдержавший стужу натурщик получил заработанные три рубля, показавшиеся ему солидной суммой. Сейчас он чувствовал себя вровень с богатеями и «первым делом лихача за рубль семьдесят пять нанял», чтобы конным выездом поразить обитателей рынка. Сурикову запомнилось его отношение к иконе Богоматери, увиденной на неоконченном холсте: «Икона у меня была нарисована, так он все на нее крестился, говорил: "Теперь я всей толкучке расскажу, какие иконы бывают"».
Руку этого язычника, не посещавшего церковь, художник сложил в двуперстие, которым юродивый откликался на староверческий жест боярыни Морозовой. Он единственный не убоялся взмаха бердыша царского прислужника, расталкивавшего толпу. То была храбрость простолюдина, стоявшего на самом низу иерархической лестницы, подобная поведению Николки в пушкинском произведении, который, не ведая страха, обращался к Борису Годунову: «Нет, нет! нельзя молиться за царя Ирода - богородица не велит».
Натуральные штрихи обретали явь и в противостоящей части картины, где разражались в раскатистом хохоте противники гонимой героини. Они долго зарились на достаток спальника Морозова, а после заточения его вдовы, выковыривали из стен ее дома замурованные клады. Напившийся браги толстощекий басовитый боярин насмешливо переговаривался с редкозубым подвыпившим священнослужителем в длиннополой шубе с рыжим лисьим воротником, который хитростью уцелел после падения власти патриарха Никона. Художник рассказывал Волошину, что его характерная внешность пришла из детских воспоминании о поездке в Красноярск вместе с дьяконом сухобузимской церкви Варсонофием Закоурцевым: «Это когда меня из Бузима еще учиться посылали, раз я с дьячком ехал - Варсонофием, - мне восемь лет было. У него тут косички подвязаны. Въезжаем мы в село Погорелое. Он говорит: "Ты, Вася, подержи лошадь: я зайду в Капернаум". Купил он себе зеленый штоф и там уже клюнул... Отопьет из штофа и на свет посмотрит. Точно вот у Пушкина в "Сцене в корчме". Как он русский народ знал!»
Возникшая параллель относилась к годуновскому эпизоду «Корчма на литовской границе», когда рачительная хозяйка угощала вином сбежавших из монастыря бродяг-чернецов Мисаила и Варлаама. Подняв чарку, один из них затягивал песню «Как во городе было во Казани». Пушкин слышал ее мотив в детстве на гульбищах в подмосковном имении Захарово и включил в созданное в Михайловском драматическое произведение. Суриков, столь же верно познавший фольклор сибирской поры, через много лет свободно передавал дорожное пение развеселившегося спутника в рясе:
Монах снова испугался,
В свою келью отправлялся -
Ризу надевал.
Большую книгу в руки брал,
Очки поправлял...
Бросил книгу и очки,
Разорвал ризу в клочки.
Сам пошел плясать...
|