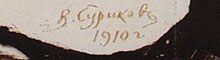Все с натуры писал: и сани, и дровни. Мы на Долгоруковской жили. (Тогда ее еще Новой Слободой звали.) У Подвисков в доме Збук.
Там в переулке всегда были глубокие сугробы, и ухабы, и розвальней много. Я все за розвальнями ходил, смотрел, как они след оставляют на раскатах особенно.
Как снег глубокий выпадет, попросишь во дворе на розвальнях проехать, чтобы снег развалило, а потом начнешь колею писать,
И чувствуешь здесь всю бедность красок.
И переулки все искал, смотрел; и крыши где высокие. А церковь-то в глубине картины - это Николы, что на Долгоруковской.
Самую картину я начал в 1885 году писать; в Мытищах жил - последняя избушка с краю. И тут я штрихи ловил. Помните посох-то, что у странника в руках. Это богомолка одна проходила мимо с этим посохом. Я схватил акварель да за ней. А она уже отошла. Кричу ей: «Бабушка! Бабушка! Дай посох!» Она и посох-то бросила - думала, разбойник я.
Девушку в толпе, это я со Сперанской писал - она тогда в монашки готовилась. А те, что кланяются, - все старообрядочки с Преображенского.
В восемьдесят седьмом я «Морозову» выставил. Помню, на выставке был. Мне говорят: «Стасов вас ищет».
И бросился это он меня обнимать при всей публике... Прямо скандал. «Что вы, говорит, со мной сделали?» Плачет ведь - со слезами на глазах. А я ему говорю: «Да что вы меня-то... (уж не знаю, что делать, неловко) - вот ведь здесь «Грешница» Поленова». А Поленов-то ведь тут - за перегородкой стоит. А он громко говорит: «Что Поленов... дерьмо написал». Я ему: «Что вы, ведь услышит»...
А Поленов-то ведь письма мне писал - направить все хотел: «Вы вот декабристов напишите». Только я думаю про себя: нет уж, ничего этого я писать не буду.
Император Александр III на выставке был. Подошел к картине. «А, это юродивый!» - говорит. Все по лицам разобрал. А у меня горло от волнения ссохлось: не мог говорить. А другие-то, как легавые псы кругом.
Я на Александра Третьего смотрю, как на истинного представителя народа. Никогда не забуду, как во время коронации мы стояли вместе с Боголюбовым 128. Нас в одной из зал дворца поставили. Я ждал, что он с другого конца выйдет. А он вдруг мимо меня: громадный, - я ему по плечо был; в мантии, и выше всех головой. Идет, и ногами так сзади мантию откидывает. Так и остались в глазах плечи сзади. Грандиозное что-то в нем было. Я государыни и не заметил с ним рядом.
А памятник этот новый у храма Христа Спасителя - никуда не годится. Опекушин совсем не понял его. Я ведь помню. Лоб у него был другой, и корона иначе сидела. А у него на памятнике корона приземистая какая-то, и сапоги солдатские. Ничего этого не было».
«Через год после того, как я «Морозову» выставил, жена умерла. В 1888 году, седьмого апреля
После смерти жены я «Исцеление слепорожденного» написал. Лично для себя написал. Не выставлял. А потом в том же году уехал в Сибирь. Встряхнулся. И тогда от драм к большой жизнерадостности перешел.
У меня всегда такие скачки к жизнерадостности бывали. Написал я тогда бытовую картину - «Городок берут».
К воспоминаниям детства вернулся, как мы зимой через Енисей в Торгашино ездили. Там в санях - справа мой брат Александр сидит. Необычайную силу духа я тогда из Сибири привез.
В 1891 году начал я «Покорение Сибири» писать. По всей Сибири ездил - материалы собирал. По Оби этюды делал. К 95 году кончил и выставил, а в том же году начал «Суворова» писать. Случайно попал к столетию в 1899 году. В девяносто восьмом ездил в Швейцарию этюды писать.
(Галерея живописи великих художников: Живопись Рериха Н.К..)
С девятисотого начал для «Стеньки Разина» собирать материалы, а выставил в девятьсот седьмом. В самую революцию попало. В Сибирь и на Дон для него ездил.
С 1908 года «Посещение царевны» писал. Выставил в 1913 году Суворов у меня с одного казачьего офицера написан. Он и теперь жив еще: ему под девяносто лет. Но главное в картине - движение. Храбрость беззаветная - покорные слову полководца, идут.
Толстой очень против был. А когда «Ермака» увидел, говорит: «Это потому, что вы поверили, оно и производит впечатление».
А я ведь летописи и не читал. Она сама мне так представилась: две стихии встречаются. А когда я, потом уж, Кунгурскую летопись начал читать - вижу, совсем, как у меня. Совсем похоже. Кучум ведь на горе стоял. Там у меня скачущие. И теперь ведь, как на пароходе едешь, - вдруг всадник на обрыв выскочит: дым, значит, увидал. Любопытство.
В исторической картине ведь и не нужно, чтобы было совсем так, а чтобы возможность была, чтобы похоже было. Суть-то исторической картины - угадывание. Если только сам дух времени соблюден - в деталях можно какие угодно ошибки делать. А когда все точка в точку - противно даже».
|