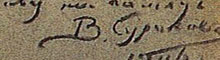
|

|
Ф.Волынский. Рассказ о Сурикове, третья страница и последняя
Вглядитесь же в лицо мальчика, идущего рядом с розвальнями впереди княгини Урусовой. Дружок его в розовой рубахе по-детски бездумно, чуть ли не счастливо смеется. А он нет, он задумался, потрясенный увиденным. Пробившись сквозь толпу, он идет, не отрывая глаз от боярыни, единственный среди всех охваченный одним лишь желанием — понять... Это чистое детское лицо, эта неразрешившаяся улыбка сострадания, этот немой вопрос в широко раскрытых глазах как бы велит и нам задуматься, вглядеться, понять, рассудить... Мастерство, с каким написана эта картина, удивительно. Две глубокие борозды, вдавленные полозьями розвальней в снег, как бы ведут нас за собой, втягивая туда, в густую толпу, изображенную с необычайной правдивостью. Морозный воздух окутывает все сизой дымкой (будто от тысяч дыханий), чуть затуманивая дали. Вот особенность суриковской живописи: при всем разнообразии лиц, одежд, уборов — всех этих разноцветных бархатов, мехов, золотого шитья, шелков, дерюг, овчин и сукон, собранных на снегу, — в картине нет пестроты, наоборот: краски ее как бы слиты в один могучий цельный аккорд, в котором страстными нотами звучат исчерна-зеленое платье боярыни и синяя, как ночь, одежда молодой посадской женщины, скорбно склонившей голову, укутанную в золотисто-желтый платок. Мы еще попытаемся вникнуть в то, как Суриков добивался этой особенной правдивости в цельности цвета, при которой само понятие «краска» словно бы перестает существовать. А пока хочу обратить ваше внимание на одну подробность, всегда восхищавшую меня. Чтобы сделать нас живыми свидетелями, более того — как бы участниками события, чтобы втянуть нас внутрь картины, в ее действие, и, наконец, чтобы оставить боярыню в центре ее, Суриков направляет ход действия от зрителя в глубину. При этом розвальни и фигура Морозовой заслоняют лошадь — мы видим лишь дугу, расписную упряжь и приподнятое копыто. Как же передать тут движение, играющее столь важную роль в самой сцене, в ее сущности, то движение, что должно и нас увлечь за собой? Взгляните на мальчика в дубленом полушубке, бегущего сбоку розвальней, слева, взмахивая непомерно длинными рукавами (тогда носили такие, отворачивая их при надобности во время работы: отсюда и выражение — «спустя рукава»). Его стремительный бег, его откинутый, облепленный снегом сапог, оставленные им следы на снегу — все это как бы вторит движению скорбного поезда среди застылой толпы, делая это движение ощутимым. Провезя Морозову по московским улицам, ее отправили в Боровск и обрекли на голодную смерть. Вот как описывает Гаршин ее последние дни: «В полном изнеможении она просила караульного стрельца: — Очень изнемогла я от голода и хочу есть. Помилуй меня, дай мне калачика. — Боюсь, госпожа. — Ну, хлебца. — Ну, принеси мне яблоко или огурчиков. Стрелец не смел ничего дать ей. — Если невозможно тебе это, то сотвори последнюю любовь: убогое тело мое покройте рогожей и положите меня подле сестры неразлучно». Умирая, она попросила вымыть ей сорочку. В этом стрелец не мог ей отказать — пошел к реке и выстирал ей сорочку, «лицо свое слезами омывая». Так окончилась драма загубленной мраком и дикостью женщины, ставшей для многих людей символом несокрушимой душевной стойкости, символом сопротивления насилию над личностью человека. Зная все это, не с большим ли пониманием будем мы смотреть замечательную суриковскую картину?" |
Рекламный блок наших партнеров:
•
"А как любил Суриков жизнь! Ту жизнь, которая обогащала его картины. Исторические темы, им выбираемые, были часто лишь "ярлыком", "названием", так сказать, его картин, а подлинное содержание их было то, что видел, пережил, чем был поражен когда-то ум,, сердце, глаз внутренний и внешний Сурикова, и тогда он в своих изображениях - назывались ли они картинами, этюдами или портретами - достигал своего "максимума", когда этому максимуму соответствовала сила, острота, глубина восприятия."
